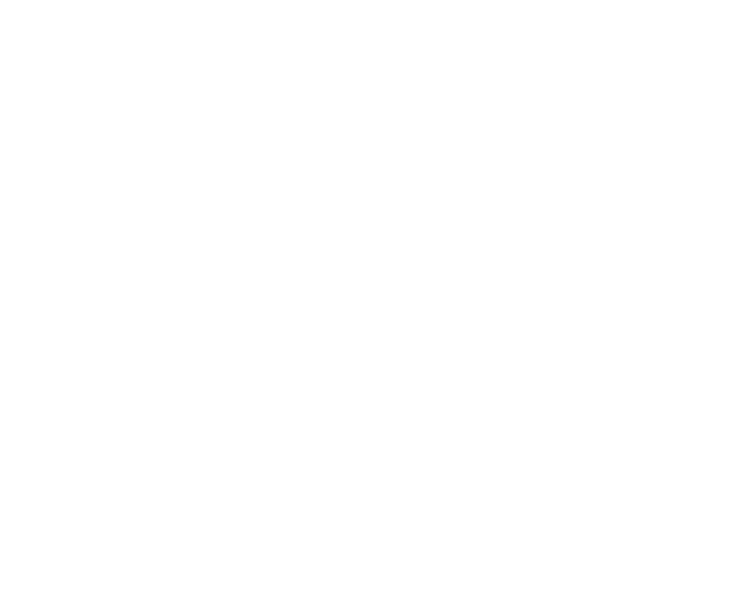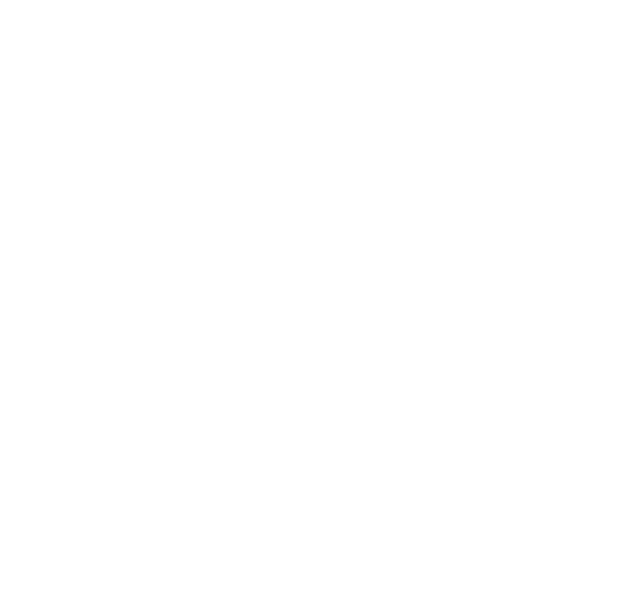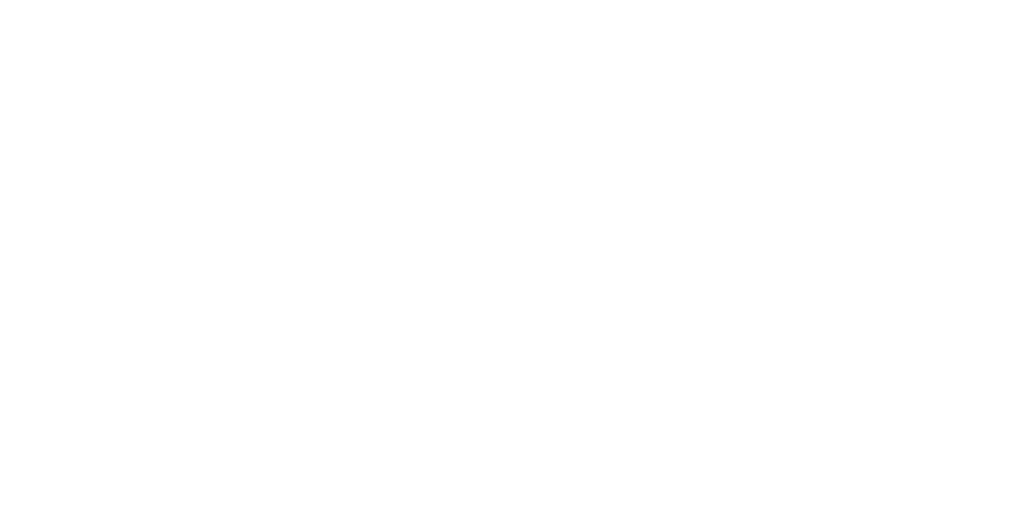Елена Грибоносова-Гребнева
Графические метафоры движения и пространства:
научное «хобби» Петра Митурича
научное «хобби» Петра Митурича
Елена Грибоносова-Гребнева
Графические метафоры движения и пространства:
научное «хобби» Петра Митурича
научное «хобби» Петра Митурича
Бурно развивавшаяся на протяжении всего прошедшего столетия научно-техническая революция существенно затронула своим влиянием сферу искусства. Восхищенная одержимость новыми достижениями техники и производства вызывала к жизни не только индивидуальные художественные открытия, но и целые стили и направления, как, например, футуризм или конструктивизм. Под глубоким обаянием научного знания оказывались многие крупные мастера ХХ века. Так, студентом мюнхенской Технической школы был в 1910-е годы Наум Габо, вольнослушателем биологической станции в Бретани проводил лето и осень 1912 года Юрий Анненков, в начале 1920-х годов готовился пойти работать в физическую лабораторию технического института бывший авиатор Климент Редько, в 1927 году почетным членом Французского Астрономического общества стал Кузьма Петров-Водкин, в 1920-е–начале 1930-х активно занимался проектной конструкторско-производственной деятельностью Владимир Татлин. На примере последнего, кстати, исследователь его творчества А. Стригалев гипотетически обозначил некие качественно сомнительные результаты подобной двойственности творческого сознания. «Печь, пальто, проекты чашки, стула и тому подобные работы Татлина непоправимо разочаровали эстетов, явно показали им, что Татлин – не художник. А долгая возня с самодеятельным летательным аппаратом разочаровала техницистов: Татлин, конечно, не инженер, а наивный любитель, увлеченный странным хобби». В этом смысле профессиональным конструктором-изобретателем, имевшим из 11 заявок 9 запатентованных авторских свидетельств, был блестящий отечественный график, педагог и теоретик искусства Петр Васильевич Митурич.
Его интерес к проблемам волнового движения и безмоторного полета зародился довольно рано, хотя итогом связанных с ними опытов и размышлений стала оформившаяся уже в поздний период творчества рукопись «Волновая динамика», над которой художник и ученый работал с 1942 по 1955 годы. Однако, по наиболее распространенной версии, которой придерживаются Май Митурич, В. Ракитин и А.Сарабьянов как составители сборника материалов из архива Петра Митурича «Записки сурового реалиста эпохи авангарда» 1997 года, идеи безмоторных летательных аппаратов впервые возникли у Митурича в 1916 году во время службы в армии и учебы в военно-инженерной школе. В то же время Кристина Лоддер, автор англоязычной монографии «Русский конструктивизм», в которой научным опытам художника посвящены два раздела «Митурич и динамический объект» и «Митурич и динамический ритм окружающей среды», относит начало его интересов технической проблеме полета еще к 1914 году. Сам же Петр Митурич в своих воспоминаниях 1921 года пишет следующее: «Невозможно двигаться больше по земле на телегах и поездах, это слишком медленно, слишком тоскливо и слишком не соответствует современному складу души человека. Все это побуждает меня работать над крыльями свободы. Поэтому и мечтаю об этом с детства, а творчески с 16 лет (т.е. с 1903 года)». В том же 1921 году, о чем восторженно пишет художник в дневнике, совершился первый полет его модели «Крылья» или летающего «волновика». На серьезные поиски оптимального решения данной модели указывают сделанные в 1920-е годы эскизные рисунки проектов подобных волновиков. (Илл. 1, 2)
В дальнейшем, как свидетельствуют архивные документы, Митурич на протяжении 1920–1930-х годов «предложил 9 технических способов решений принципа волнообразного движения аппаратов для полета и плавания в воздухе, для плавания в воде и скольжения по ее поверхности и для передвижения по земле – механизма движения, существовавшего до сего времени только в природе». Помимо упомянутых выше «Крыльев», такие аппараты получили соответственно названия: «Дирижабль», «Лодка», «Волновик-глиссер», «Гусеница». (Илл. 3,4,5)
Не та техника, которая стремится изменить дикое и никогда не победимое лицо природы, но та будет родной человеку, которая широко использует свободную игру сил ее во всем диапазоне уловимых актов ее колебаний
В соответствии с принципами «органического конструктивизма», на который ссылается, в частности, Кристина Лоддер, сам Митурич так передает смысловую суть своих проектов: «Предметом моей гордости является то, что я указываю на волновое движение, как на самое синтетическое. Раскрываю тайну движения организмов природы, так как все они волнообразны или имеют таковое происхождение, будь то полет птицы, плаванье рыбы, ползание змеи или передвижение на ногах». «Не та техника, – пишет далее художник, – которая стремится изменить дикое и никогда не победимое лицо природы, но та будет родной человеку, которая широко использует свободную игру сил ее во всем диапазоне уловимых актов ее колебаний».
Подобный ход мысли, и в первую очередь, по мнению самого Митурича, явился во многом отражением философско-поэтических идей Хлебникова, с которым художник особенно тесно сошелся и плодотворно общался в 1921–1922 годах вплоть до скоропостижной смерти поэта в деревне Санталово под Новгородом. Как и Хлебников, которого его сестра Вера называла «великим наблюдателем», Митурич отличался повышенной способностью глубоко прозорливого восприятия природы, что дало основание инженеру В. Пекелису, автору небольшой статьи о научных экспериментах Митурича в журнале «Наука и жизнь» 1968 года, сказать следующее: «Знакомство с его изобретениями, записями привело меня к убеждению, что главной чертой в техническом творчестве Митурича, редкой его особенностью была зоркость художника. Та зоркость, которая позволяла ему подсмотреть скрытое в творениях природы».
Кроме того, исключительно близкой творческому мышлению Митурича оказалась идея Хлебникова о едином «чувстве мира» или «едином камне мироздания», сложившаяся в его статьях «Доски судьбы». В этом смысле художник рассуждает так: «Научное чувство истины и эстетическое чувство красоты есть одно и то же чувство мира. Это осознали великие ученые и поэтому творческие силы науки и техники обращались к прогрессивным силам искусства». В свою очередь, о важности научного аспекта в поэтическом творчестве Хлебникова очень точно писал в 1929 году один из самых тонких и проницательных критиков поэта Ю. Тынянов: «Хлебников смотрит на вещи как на явления взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание, – вровень». Поэтому вполне закономерно, что свой труд о «волновиках» П. Митурич посвящает «памяти Великого Движителя Велимира Хлебникова».
Вместе с тем, как верно подмечает Лоддер, хронология событий, связанных с развитием, в частности, идей безмоторного полета у Митурича, не дает оснований прослеживать их изначальный импульс непосредственно от Хлебникова. Кстати, косвенное подтверждение тому находим мы и у самого Митурича, который вспоминал, как в 1921 году делился с поэтом «своими изобретательскими делами, хотел объяснить принцип волнового полета, но Велимир упорно отклонялся от вникания в технические дела, говоря, что этот храм закрыт для него и он ничего не поймет. Тогда как я чувствовал родство своей технической мысли с его философией о мироздании и движении».
Очевидно, что хронологически подобные инженерные опыты Митурича предшествовали и аналогичным занятиям Татлина, который над своим летательным аппаратом работает с помощниками в 1929–1932 годах. Хотя Стригалев косвенно относит, по крайней мере, теоретическую стадию этого процесса к более раннему периоду, говоря о «техницистской утопии» Татлина по созданию «интимной авиации для отдельного человека», базирующейся на анализе строения птицы. Как пишет исследователь, «в 1912 году Татлин, надо полагать, поделился какими-то своими секретами на этот счет с В. Хлебниковым, в 1924 на что-то намекнул П. Митуричу». Как бы то ни было, но «бионический техницизм», о котором пишет Стригалев, определяя таким образом творческую концепцию Татлина, и который основан на синтезировании противоположностей техницистских и биологических форм, оказывается весьма созвучен идеям Митурича. Кстати, и в дальнейшие годы Татлин параллельно, но независимо от Митурича (прекратившего общение с Татлиным в 1930 году после того, как Татлин оформил катафалк Маяковского, которого Митурич считал предателем обожаемого им В. Хлебникова) обращался к похожей инженерной практике и, по свидетельству того же Стригалева, ссылающегося на воспоминания В.И. Костина, «в последние годы жизни разрабатывал проект моторной лодки на основе изучения анатомии рыб».
Таким образом, сложившиеся у двух художников близкие инженерные концепции привлечения природной органики в научно-технических экспериментах, различались, пожалуй, лишь только в контексте их восприятия. Если в творческой практике Татлина подобные опыты чаще всего рассматриваются как логический итог его отвлеченных авангардно-конструктивистских устремлений, то в деятельности Митурича, который практически никогда не порывал с пластической эстетикой и фигуративной образностью, они существуют под очевидным знаком реализма. Кстати, о характере этого реализма, называя его «суровым» (определение Фаворского), «действенным» (понятие самого Митурича), «высшим» или «мистическим» (версия М. Чегодаевой), в разное время рассуждали многие художники и исследователи.
Причем, это конечно же не был тот «реализм», о котором азартно заявляли многие авангардисты и теоретики конструктивизма в начале 1920-х годов. К ним относился, например, Наум Габо, назвавший свой хорошо известный конструктивистский манифест 1920 года «Реалистическим» и объяснявший это тем, что «его произведения – полноценная часть окружающего мира». Между тем вместе со своим братом художником Антуаном Певзнером он однозначно отдавал приоритет инженерно-технической модели творчества, когда объявлял следующее: «С отвесом в руке, с глазами точными, как линейка, с духом, напряженным как циркуль, мы строим свои произведения, как строит мир свои творения, как инженер мосты, как математик формулы орбит…» Именно поэтому, как удачно формулирует В. Тасалов, «в угловых, резких и острых по абрису конструкциях Габо рассчитывает прежде всего на рафинированный "инженерный" и "физический" эффект. Как конструктивистские смыслообразы "века техники", они напоминают причудливые технические сооружения или приборы, символически обобщающие принципы "инженерного геометризма"».
Подобный ход мысли, и в первую очередь, по мнению самого Митурича, явился во многом отражением философско-поэтических идей Хлебникова, с которым художник особенно тесно сошелся и плодотворно общался в 1921–1922 годах вплоть до скоропостижной смерти поэта в деревне Санталово под Новгородом. Как и Хлебников, которого его сестра Вера называла «великим наблюдателем», Митурич отличался повышенной способностью глубоко прозорливого восприятия природы, что дало основание инженеру В. Пекелису, автору небольшой статьи о научных экспериментах Митурича в журнале «Наука и жизнь» 1968 года, сказать следующее: «Знакомство с его изобретениями, записями привело меня к убеждению, что главной чертой в техническом творчестве Митурича, редкой его особенностью была зоркость художника. Та зоркость, которая позволяла ему подсмотреть скрытое в творениях природы».
Кроме того, исключительно близкой творческому мышлению Митурича оказалась идея Хлебникова о едином «чувстве мира» или «едином камне мироздания», сложившаяся в его статьях «Доски судьбы». В этом смысле художник рассуждает так: «Научное чувство истины и эстетическое чувство красоты есть одно и то же чувство мира. Это осознали великие ученые и поэтому творческие силы науки и техники обращались к прогрессивным силам искусства». В свою очередь, о важности научного аспекта в поэтическом творчестве Хлебникова очень точно писал в 1929 году один из самых тонких и проницательных критиков поэта Ю. Тынянов: «Хлебников смотрит на вещи как на явления взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание, – вровень». Поэтому вполне закономерно, что свой труд о «волновиках» П. Митурич посвящает «памяти Великого Движителя Велимира Хлебникова».
Вместе с тем, как верно подмечает Лоддер, хронология событий, связанных с развитием, в частности, идей безмоторного полета у Митурича, не дает оснований прослеживать их изначальный импульс непосредственно от Хлебникова. Кстати, косвенное подтверждение тому находим мы и у самого Митурича, который вспоминал, как в 1921 году делился с поэтом «своими изобретательскими делами, хотел объяснить принцип волнового полета, но Велимир упорно отклонялся от вникания в технические дела, говоря, что этот храм закрыт для него и он ничего не поймет. Тогда как я чувствовал родство своей технической мысли с его философией о мироздании и движении».
Очевидно, что хронологически подобные инженерные опыты Митурича предшествовали и аналогичным занятиям Татлина, который над своим летательным аппаратом работает с помощниками в 1929–1932 годах. Хотя Стригалев косвенно относит, по крайней мере, теоретическую стадию этого процесса к более раннему периоду, говоря о «техницистской утопии» Татлина по созданию «интимной авиации для отдельного человека», базирующейся на анализе строения птицы. Как пишет исследователь, «в 1912 году Татлин, надо полагать, поделился какими-то своими секретами на этот счет с В. Хлебниковым, в 1924 на что-то намекнул П. Митуричу». Как бы то ни было, но «бионический техницизм», о котором пишет Стригалев, определяя таким образом творческую концепцию Татлина, и который основан на синтезировании противоположностей техницистских и биологических форм, оказывается весьма созвучен идеям Митурича. Кстати, и в дальнейшие годы Татлин параллельно, но независимо от Митурича (прекратившего общение с Татлиным в 1930 году после того, как Татлин оформил катафалк Маяковского, которого Митурич считал предателем обожаемого им В. Хлебникова) обращался к похожей инженерной практике и, по свидетельству того же Стригалева, ссылающегося на воспоминания В.И. Костина, «в последние годы жизни разрабатывал проект моторной лодки на основе изучения анатомии рыб».
Таким образом, сложившиеся у двух художников близкие инженерные концепции привлечения природной органики в научно-технических экспериментах, различались, пожалуй, лишь только в контексте их восприятия. Если в творческой практике Татлина подобные опыты чаще всего рассматриваются как логический итог его отвлеченных авангардно-конструктивистских устремлений, то в деятельности Митурича, который практически никогда не порывал с пластической эстетикой и фигуративной образностью, они существуют под очевидным знаком реализма. Кстати, о характере этого реализма, называя его «суровым» (определение Фаворского), «действенным» (понятие самого Митурича), «высшим» или «мистическим» (версия М. Чегодаевой), в разное время рассуждали многие художники и исследователи.
Причем, это конечно же не был тот «реализм», о котором азартно заявляли многие авангардисты и теоретики конструктивизма в начале 1920-х годов. К ним относился, например, Наум Габо, назвавший свой хорошо известный конструктивистский манифест 1920 года «Реалистическим» и объяснявший это тем, что «его произведения – полноценная часть окружающего мира». Между тем вместе со своим братом художником Антуаном Певзнером он однозначно отдавал приоритет инженерно-технической модели творчества, когда объявлял следующее: «С отвесом в руке, с глазами точными, как линейка, с духом, напряженным как циркуль, мы строим свои произведения, как строит мир свои творения, как инженер мосты, как математик формулы орбит…» Именно поэтому, как удачно формулирует В. Тасалов, «в угловых, резких и острых по абрису конструкциях Габо рассчитывает прежде всего на рафинированный "инженерный" и "физический" эффект. Как конструктивистские смыслообразы "века техники", они напоминают причудливые технические сооружения или приборы, символически обобщающие принципы "инженерного геометризма"».
С отвесом в руке, с глазами точными, как линейка, с духом, напряженным как циркуль, мы строим свои произведения, как строит мир свои творения, как инженер мосты, как математик формулы орбит…
В похожем ключе мыслит и идеолог производственного искусства Николай Тарабукин в своем очерке 1923 года «От мольберта к машине», когда пишет так: «Понятие "реализм" я употребляю в самом широком смысле и отнюдь не отождествляю его с натурализмом, являющимся одним из видов реализма и притом самым примитивным и наивным по выражению. Современное эстетическое сознание понятие реализма с сюжета перенесло на форму произведения. <…> Художник в формах своего искусства создает свою действительность, и реализм им понимается, как сознание подлинной вещи, самодовлеющей и по форме, и по содержанию, вещи, <…> конструируемой от начала до конца художником вне проекционных линий, которые могли бы быть протянуты к ней от действительности».
В этом контексте «волновики» Митурича с сохранением в них большого числа «проекционных линий», протянутых к ним от природной действительности, нельзя воспринимать ни как математически отвлеченные пространственные тела Габо, ни как машинно-производственные объекты конструктивистов. И возможно, что осмысление заложенной в их инженерной конструкции непосредственной органики поможет в деле уточнения стилевых нюансов реалистического искусства Митурича.
Безусловно, нельзя сказать, что научная сторона его творчества до сих пор оставалась неизвестной заповедной территорией. О ней эпизодически писали уже упомянутые отечественные и зарубежные авторы, неизменно относя ее к важному, но достаточно самостоятельному разделу творческого наследия Митурича. Но при этом анализ конкретных примеров взаимовлияния и тесного синтеза его художественной и научной деятельности, как правило, оставался за скобками. Следует подчеркнуть, что в рамках этого синтеза Митурич все-таки ставил акцент именно на образно-художественной, метафорически пластической составляющей, о чем хорошо говорят его собственные слова: «Сложность художественного мышления заключается в том, что художник осознает одновременно и слитно разные по существу и строению элементы наблюдаемой природы или переживания в воображении. Светотень, ее структура, цвет, его структура, форма, ее структура, пространство, его структура – все взаимно пересекается, и художник должен найти равнодействующую, синтетические слова для выражения, а научный подход строит все в отдельности, накладывая одно на другое».
Это принципиальное отличительное качество творческого мышления мастера, связанного с превалированием роли художника над миссией ученого, а не наоборот, удачно подметил живописец и график Николай Лапшин, поместивший в 1923 году в журнале «Русское искусство» заметку о выставке работ Митурича, посвященных Хлебникову. «Не будет большой натяжкой сравнить работу Митурича путем художественного созерцания, – пишет Лапшин, – с работой ученого, который работает в другом аспекте, над "разрезами", под микроскопом. Это различие идет и дальше, не только между ученым и Митуричем, но и между им и многими новыми художниками, которые подменивают свой опыт художника попытками познать научно, и приходят к отрицанию искусства, как конструктивисты, и к отрицанию природы – супрематисты, подменяя вечностановящееся – фикцией науки, – ставшим, непосредственное живое ощущение – научным анализом и абстракциями».
В похожем ключе рассуждает много позднее и искусствовед Е.М. Жукова в своей опубликованной в 1981 году статье о структуре произведений П.В. Митурича. «В моделях и чертежах мы видим руку и взгляд художника. По сути дела, идея физического овладения пространством – это вечная дерзкая мечта художников. А ритмы движущихся аппаратов, волновая динамика, подчиненная мускульной силе человека, сродни графическим ритмам, оставленным рукой Митурича на бумаге». По сути это чуть ли не единственный раз озвученная в искусствоведческом тексте констатация явных образно-пластических пересечений и параллелей между «научной» и «ненаучной» графикой Петра Митурича.
Итак, если обратиться к конкретным примерам подобного отражения в станковой и книжной графике художника ритмов и образов волновой динамики, оказавшихся отчасти сродни и тем «кинетическим ритмам» как основным формам ощущений реального времени, которые провозглашал в своем манифесте Габо, то больше всего их окажется в графических работах Митурича по мотивам поэзии Велимира Хлебникова. Так, более органически круглящиеся по своим формам или более геометрически очерченные силуэты «графических мотивов» Митурича 1918–1922 годов пластически перекликаются с его исполненными в 1930-е годы овально обрисованными или плавно изогнутыми «волновиками». Исходя из этих визуальных аналогий, мы можем заметить, что в технических рисунках Митурича, отмеченных необходимым «реализмом» инженерной мысли, порой подспудно присутствует отвлеченная фантазийная метафоричность его не связанных с техническими проектами «графических мотивов», в которых, в свою очередь, как бы образно зашифрована пластическая органика его научных моделей, словно предвосхищающая их гибкие силуэты и кольцеобразные профили разрезов. (Илл. 6, 7, 8, 9, 10)
В этом контексте «волновики» Митурича с сохранением в них большого числа «проекционных линий», протянутых к ним от природной действительности, нельзя воспринимать ни как математически отвлеченные пространственные тела Габо, ни как машинно-производственные объекты конструктивистов. И возможно, что осмысление заложенной в их инженерной конструкции непосредственной органики поможет в деле уточнения стилевых нюансов реалистического искусства Митурича.
Безусловно, нельзя сказать, что научная сторона его творчества до сих пор оставалась неизвестной заповедной территорией. О ней эпизодически писали уже упомянутые отечественные и зарубежные авторы, неизменно относя ее к важному, но достаточно самостоятельному разделу творческого наследия Митурича. Но при этом анализ конкретных примеров взаимовлияния и тесного синтеза его художественной и научной деятельности, как правило, оставался за скобками. Следует подчеркнуть, что в рамках этого синтеза Митурич все-таки ставил акцент именно на образно-художественной, метафорически пластической составляющей, о чем хорошо говорят его собственные слова: «Сложность художественного мышления заключается в том, что художник осознает одновременно и слитно разные по существу и строению элементы наблюдаемой природы или переживания в воображении. Светотень, ее структура, цвет, его структура, форма, ее структура, пространство, его структура – все взаимно пересекается, и художник должен найти равнодействующую, синтетические слова для выражения, а научный подход строит все в отдельности, накладывая одно на другое».
Это принципиальное отличительное качество творческого мышления мастера, связанного с превалированием роли художника над миссией ученого, а не наоборот, удачно подметил живописец и график Николай Лапшин, поместивший в 1923 году в журнале «Русское искусство» заметку о выставке работ Митурича, посвященных Хлебникову. «Не будет большой натяжкой сравнить работу Митурича путем художественного созерцания, – пишет Лапшин, – с работой ученого, который работает в другом аспекте, над "разрезами", под микроскопом. Это различие идет и дальше, не только между ученым и Митуричем, но и между им и многими новыми художниками, которые подменивают свой опыт художника попытками познать научно, и приходят к отрицанию искусства, как конструктивисты, и к отрицанию природы – супрематисты, подменяя вечностановящееся – фикцией науки, – ставшим, непосредственное живое ощущение – научным анализом и абстракциями».
В похожем ключе рассуждает много позднее и искусствовед Е.М. Жукова в своей опубликованной в 1981 году статье о структуре произведений П.В. Митурича. «В моделях и чертежах мы видим руку и взгляд художника. По сути дела, идея физического овладения пространством – это вечная дерзкая мечта художников. А ритмы движущихся аппаратов, волновая динамика, подчиненная мускульной силе человека, сродни графическим ритмам, оставленным рукой Митурича на бумаге». По сути это чуть ли не единственный раз озвученная в искусствоведческом тексте констатация явных образно-пластических пересечений и параллелей между «научной» и «ненаучной» графикой Петра Митурича.
Итак, если обратиться к конкретным примерам подобного отражения в станковой и книжной графике художника ритмов и образов волновой динамики, оказавшихся отчасти сродни и тем «кинетическим ритмам» как основным формам ощущений реального времени, которые провозглашал в своем манифесте Габо, то больше всего их окажется в графических работах Митурича по мотивам поэзии Велимира Хлебникова. Так, более органически круглящиеся по своим формам или более геометрически очерченные силуэты «графических мотивов» Митурича 1918–1922 годов пластически перекликаются с его исполненными в 1930-е годы овально обрисованными или плавно изогнутыми «волновиками». Исходя из этих визуальных аналогий, мы можем заметить, что в технических рисунках Митурича, отмеченных необходимым «реализмом» инженерной мысли, порой подспудно присутствует отвлеченная фантазийная метафоричность его не связанных с техническими проектами «графических мотивов», в которых, в свою очередь, как бы образно зашифрована пластическая органика его научных моделей, словно предвосхищающая их гибкие силуэты и кольцеобразные профили разрезов. (Илл. 6, 7, 8, 9, 10)
В этом смысле, можно сказать, что если идеи Татлина дали основание для сформулированного Мельниковым понятия «живой архитектуры», то инженерно-художественные идеи Митурича привели к возникновению феномена, если можно так выразиться, «живой техники». За нее, кстати говоря, в 1930-е годы, по воспоминаниям Мая Митурича, судостроители нередко порицали художника-изобретателя: «Мы боремся с гибкостью судов, а вы ищете в ней какие-то динамические возможности. Смело, но фантастично и неактуально». Но если последовательное внедрение идей природной динамики в инженерные проекты Петра Митурича воспринималось учеными как откровенная фантастика или, иначе говоря, научная «абстракция», то наоборот, некая инженерно-конструктивная идея, привнесенная в его «графические мотивы», придавала такому искусству качество особого и парадоксального научно-поэтического «реализма».
Не менее выразительно образы волновой ритмики и колебательных движений каких-то странных биологических организмов звучат и в графических листах, которые уже непосредственно являются иллюстрациями к произведениям Хлебникова или страницами из посвященной ему рукописной книги. Наиболее заметная из этих работ – оформленная Митуричем в 1921–1923 годах поэма «Я Разин со знаменем Лобачевского логов». Отталкиваясь от палиндромной структуры текста Хлебникова, который, выражаясь языком поэта, представлял собой словесный «перевертень», Митурич, как пишет М. Чегодаева, «в своих "хлебниковских" вещах не просто "иллюстрировал" словотворчество поэта, но искал аналогичные корням слов "графические корни", как бы основы, "звуки" изобразительного искусства, из которых творил формы и абсолютно новые, и ассоциативно близкие реальным формам природы и вещей». (Илл. 11, 12, 13)
Не менее выразительно образы волновой ритмики и колебательных движений каких-то странных биологических организмов звучат и в графических листах, которые уже непосредственно являются иллюстрациями к произведениям Хлебникова или страницами из посвященной ему рукописной книги. Наиболее заметная из этих работ – оформленная Митуричем в 1921–1923 годах поэма «Я Разин со знаменем Лобачевского логов». Отталкиваясь от палиндромной структуры текста Хлебникова, который, выражаясь языком поэта, представлял собой словесный «перевертень», Митурич, как пишет М. Чегодаева, «в своих "хлебниковских" вещах не просто "иллюстрировал" словотворчество поэта, но искал аналогичные корням слов "графические корни", как бы основы, "звуки" изобразительного искусства, из которых творил формы и абсолютно новые, и ассоциативно близкие реальным формам природы и вещей». (Илл. 11, 12, 13)
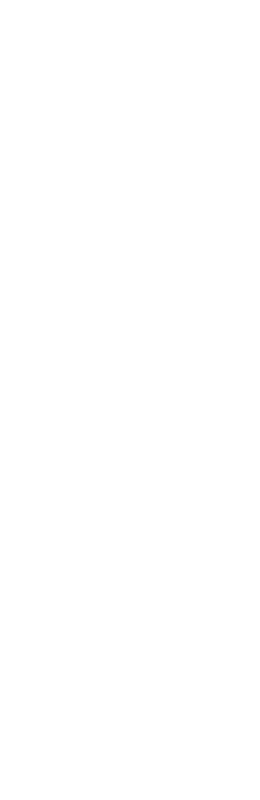
Илл. 12
В этом смысле, можно сказать, что если идеи Татлина дали основание для сформулированного Мельниковым понятия «живой архитектуры», то инженерно-художественные идеи Митурича привели к возникновению феномена, если можно так выразиться, «живой техники». За нее, кстати говоря, в 1930-е годы, по воспоминаниям Мая Митурича, судостроители нередко порицали художника-изобретателя: «Мы боремся с гибкостью судов, а вы ищете в ней какие-то динамические возможности. Смело, но фантастично и неактуально». Но если последовательное внедрение идей природной динамики в инженерные проекты Петра Митурича воспринималось учеными как откровенная фантастика или, иначе говоря, научная «абстракция», то наоборот, некая инженерно-конструктивная идея, привнесенная в его «графические мотивы», придавала такому искусству качество особого и парадоксального научно-поэтического «реализма».
Не менее выразительно образы волновой ритмики и колебательных движений каких-то странных биологических организмов звучат и в графических листах, которые уже непосредственно являются иллюстрациями к произведениям Хлебникова или страницами из посвященной ему рукописной книги. Наиболее заметная из этих работ – оформленная Митуричем в 1921–1923 годах поэма «Я Разин со знаменем Лобачевского логов». Отталкиваясь от палиндромной структуры текста Хлебникова, который, выражаясь языком поэта, представлял собой словесный «перевертень», Митурич, как пишет М. Чегодаева, «в своих "хлебниковских" вещах не просто "иллюстрировал" словотворчество поэта, но искал аналогичные корням слов "графические корни", как бы основы, "звуки" изобразительного искусства, из которых творил формы и абсолютно новые, и ассоциативно близкие реальным формам природы и вещей». (Илл. 11, 12, 13)
Не менее выразительно образы волновой ритмики и колебательных движений каких-то странных биологических организмов звучат и в графических листах, которые уже непосредственно являются иллюстрациями к произведениям Хлебникова или страницами из посвященной ему рукописной книги. Наиболее заметная из этих работ – оформленная Митуричем в 1921–1923 годах поэма «Я Разин со знаменем Лобачевского логов». Отталкиваясь от палиндромной структуры текста Хлебникова, который, выражаясь языком поэта, представлял собой словесный «перевертень», Митурич, как пишет М. Чегодаева, «в своих "хлебниковских" вещах не просто "иллюстрировал" словотворчество поэта, но искал аналогичные корням слов "графические корни", как бы основы, "звуки" изобразительного искусства, из которых творил формы и абсолютно новые, и ассоциативно близкие реальным формам природы и вещей». (Илл. 11, 12, 13)
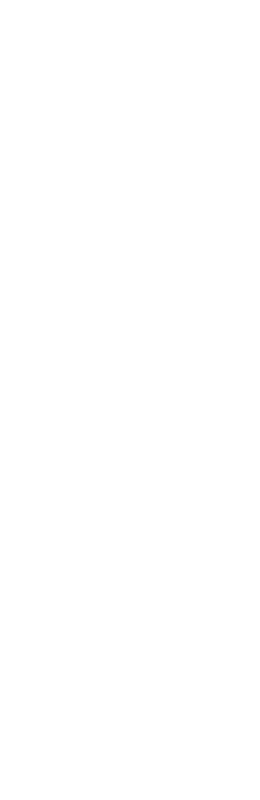
Илл. 12
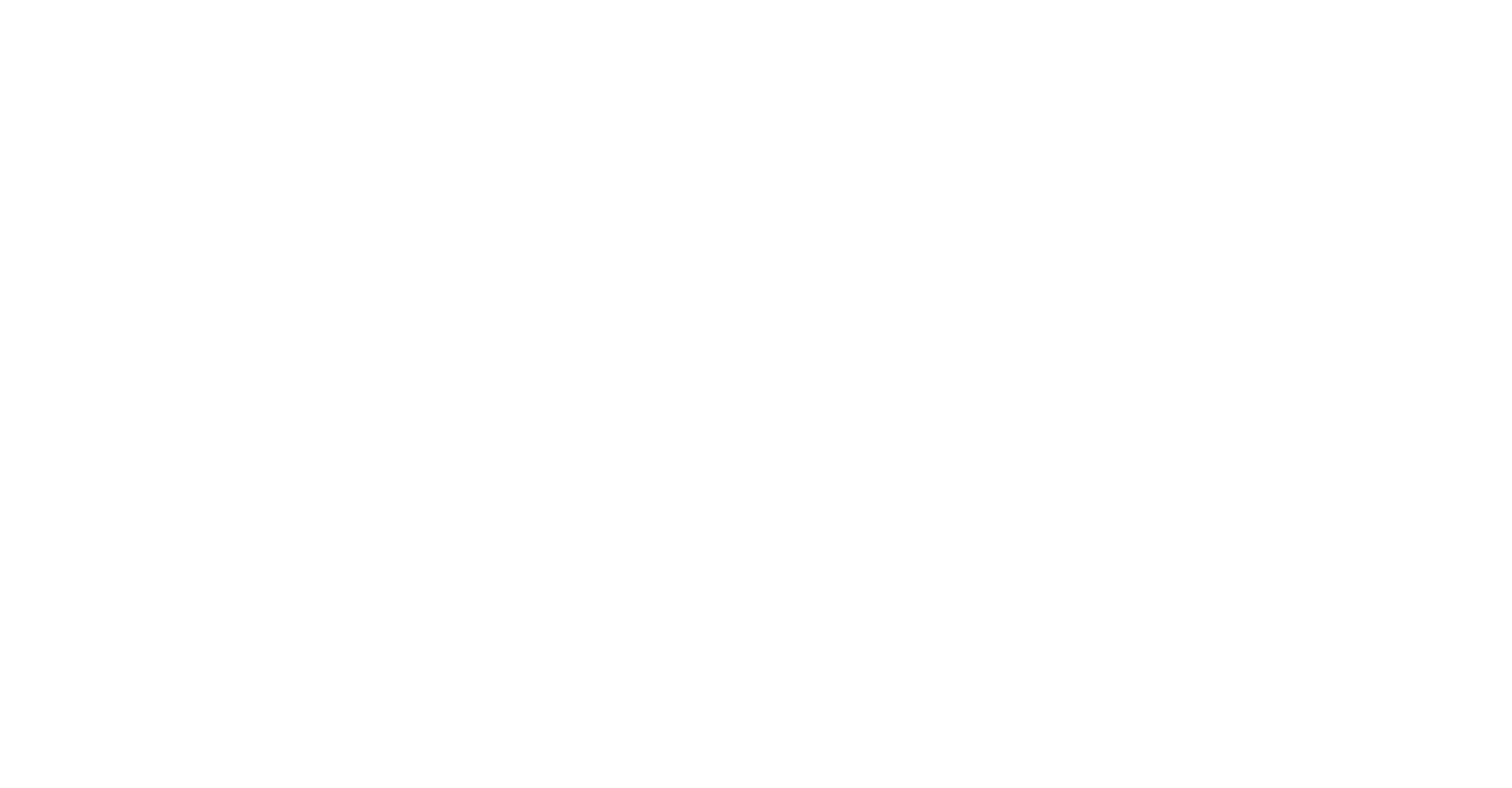
Так составленные из одного корня целые поэтические страницы, которые, нанизываясь на корень путем изменения окончаний и приставок, выстраиваются в некий подвижный организм с гибким остовом, вызывают ассоциации с образом рыбы или плавучего мерно движущегося «волновика». Подобным аналогиям во многом способствует и созданная Митуричем симметричная графическая фигура, составленная из строчек текста и как бы уравновешивающего и дополняющего его силуэт зигзагообразного графического изображения. Все это как нельзя лучше графически передает философские размышления Хлебникова, которые, например, озвучены в одном из его писем к Митуричу: «Чувство времени исчезает и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством». Так сам человек как возвышенный носитель Слова здесь оказывается как бы пространственно-временным «корнем» и «остовом» мироздания. А подобной пространственно-метафизической пустотой веет от целого ряда пейзажных работ Митурича, особенно исполненных в Санталово в начале 1920-х годов. (Илл. 18)

Возможно, длительные и углубленные размышления художника над подобными поэтически-пространственными метафорами, а также его изначальная завороженность круговыми и волнообразными природными ритмами движения стали залогом создания образа идеального города будущего, тоже находящего свои самоценные графические аналогии в его искусстве. «Отвлеченную схему города, которая выражала бы абстрактные принципы волновой динамики», Митурич представляет себе так: «…весь город построим по сетке, образованной из плотно прилегающих кругов, каждая дуга от одного соединения до другого даст кратчайший путь по всем направлениям и вследствие кривизны сохранит динамичность поворотов, чего мы не имеем в прямоугольной сетке… город станет как бы прозрачным для динамики человека. Система улиц исчезнет. Фасады домов отпадут, но это не значит, что архитектура и художественное лицо исчезнут. Наоборот, гармоническая архитектоника строений получит особый простор в связи с большими масштабами».
Наконец, ситуация странного пластического палиндрома или «перевертня», намекающая на взаимопроницаемость научных и художественных образов Митурича, возникает и в его станковой, особенно портретной графике. Например, тема полета, получившая большое развитие в изобретательской деятельности художника, нашла явное или скрытое отражение в его графических листах, как, скажем, «Птица на ветке. Графический мотив к поэзии Хлебникова» (илл. 17) или «Вера Хлебникова» (илл. 19). В этом случае хрестоматийно известный портрет Хлебниковой воспринимается как романтический образ полета, весьма созвучный словам самого Митурича, взятым из его текста «Динамика больших путей»: «Чем меньше человек располагает возможностями движения, тем он более угнетен в природе и больше завидует птицам перелетным. Потому в мечтах о лучшем человек окрыляет образ». Как бы взвешивая в пространстве свою модель, художник позволяет ей почти свободно «парить» над городом, в очертаниях которого, если воспользоваться удачными характеристиками Лапшина, «нет обычных обобщений по форме, нет схематизаций и, очень обычной для "городского" искусства, – геометризации. Все сделано очень просто, но в каждом штрихе чувствуется пережитое ощущение природной формы, ее ритма».
Наконец, ситуация странного пластического палиндрома или «перевертня», намекающая на взаимопроницаемость научных и художественных образов Митурича, возникает и в его станковой, особенно портретной графике. Например, тема полета, получившая большое развитие в изобретательской деятельности художника, нашла явное или скрытое отражение в его графических листах, как, скажем, «Птица на ветке. Графический мотив к поэзии Хлебникова» (илл. 17) или «Вера Хлебникова» (илл. 19). В этом случае хрестоматийно известный портрет Хлебниковой воспринимается как романтический образ полета, весьма созвучный словам самого Митурича, взятым из его текста «Динамика больших путей»: «Чем меньше человек располагает возможностями движения, тем он более угнетен в природе и больше завидует птицам перелетным. Потому в мечтах о лучшем человек окрыляет образ». Как бы взвешивая в пространстве свою модель, художник позволяет ей почти свободно «парить» над городом, в очертаниях которого, если воспользоваться удачными характеристиками Лапшина, «нет обычных обобщений по форме, нет схематизаций и, очень обычной для "городского" искусства, – геометризации. Все сделано очень просто, но в каждом штрихе чувствуется пережитое ощущение природной формы, ее ритма».

Илл. 19
Возможно, длительные и углубленные размышления художника над подобными поэтически-пространственными метафорами, а также его изначальная завороженность круговыми и волнообразными природными ритмами движения стали залогом создания образа идеального города будущего, тоже находящего свои самоценные графические аналогии в его искусстве. «Отвлеченную схему города, которая выражала бы абстрактные принципы волновой динамики», Митурич представляет себе так: «…весь город построим по сетке, образованной из плотно прилегающих кругов, каждая дуга от одного соединения до другого даст кратчайший путь по всем направлениям и вследствие кривизны сохранит динамичность поворотов, чего мы не имеем в прямоугольной сетке… город станет как бы прозрачным для динамики человека. Система улиц исчезнет. Фасады домов отпадут, но это не значит, что архитектура и художественное лицо исчезнут. Наоборот, гармоническая архитектоника строений получит особый простор в связи с большими масштабами».
Наконец, ситуация странного пластического палиндрома или «перевертня», намекающая на взаимопроницаемость научных и художественных образов Митурича, возникает и в его станковой, особенно портретной графике. Например, тема полета, получившая большое развитие в изобретательской деятельности художника, нашла явное или скрытое отражение в его графических листах, как, скажем, «Птица на ветке. Графический мотив к поэзии Хлебникова» (илл. 17) или «Вера Хлебникова» (илл. 19). В этом случае хрестоматийно известный портрет Хлебниковой воспринимается как романтический образ полета, весьма созвучный словам самого Митурича, взятым из его текста «Динамика больших путей»: «Чем меньше человек располагает возможностями движения, тем он более угнетен в природе и больше завидует птицам перелетным. Потому в мечтах о лучшем человек окрыляет образ». Как бы взвешивая в пространстве свою модель, художник позволяет ей почти свободно «парить» над городом, в очертаниях которого, если воспользоваться удачными характеристиками Лапшина, «нет обычных обобщений по форме, нет схематизаций и, очень обычной для "городского" искусства, – геометризации. Все сделано очень просто, но в каждом штрихе чувствуется пережитое ощущение природной формы, ее ритма».
Наконец, ситуация странного пластического палиндрома или «перевертня», намекающая на взаимопроницаемость научных и художественных образов Митурича, возникает и в его станковой, особенно портретной графике. Например, тема полета, получившая большое развитие в изобретательской деятельности художника, нашла явное или скрытое отражение в его графических листах, как, скажем, «Птица на ветке. Графический мотив к поэзии Хлебникова» (илл. 17) или «Вера Хлебникова» (илл. 19). В этом случае хрестоматийно известный портрет Хлебниковой воспринимается как романтический образ полета, весьма созвучный словам самого Митурича, взятым из его текста «Динамика больших путей»: «Чем меньше человек располагает возможностями движения, тем он более угнетен в природе и больше завидует птицам перелетным. Потому в мечтах о лучшем человек окрыляет образ». Как бы взвешивая в пространстве свою модель, художник позволяет ей почти свободно «парить» над городом, в очертаниях которого, если воспользоваться удачными характеристиками Лапшина, «нет обычных обобщений по форме, нет схематизаций и, очень обычной для "городского" искусства, – геометризации. Все сделано очень просто, но в каждом штрихе чувствуется пережитое ощущение природной формы, ее ритма».

Илл. 19
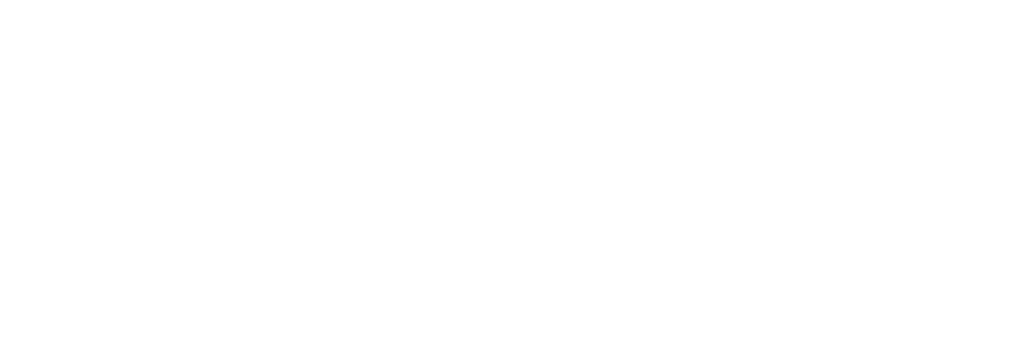
Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии
В отличие от подобного ассоциативного образного уподобления, мы видим присутствие как бы «зашифрованных» графических очертаний стилизованно увеличенного микроскопически клеточного организма или причудливого волновика в портретах Е. Тейса (илл. 14, 15, 16) и Н. Степанова 1946 года. (Илл. 20, 21) В последнем из них в абрисах фигуры и фона практически угадывается силуэт «Волновика-скакунца», эскиз которого сделан П. Митуричем в 1930 году. По воспоминаниям Мая Митурича, его отец однажды летом вместе со своим помощником и учеником по Вхутемасу Павлом Захаровым «задумал построить в натуральную величину волновик-скакунец – что-то вроде конька-горбунка или, вернее, кенгуру на двух пружинистых ногах с упругим хвостом для опоры. Колебания седока, передаваясь скакунцу, должны были приводить его в движение». Так, словно «впрыгнувший» в портрет Степанова похожий «скакунец» своим густым темпераментно очерченным силуэтом придает изображению странный магический оттенок пластически двойственного графического пространства. В свете подобных сравнений сложно не вспомнить верное суждение Тынянова: «Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии».

Таким образом, страстное «научное» и художественно-эмоциональные переживания окружающей среды, неотъемлемо присущие Митуричу, не только стали залогом его насыщенной и разнообразной творческой деятельности, но и привели к созданию уникальной поэтики в искусстве мастера. Внутри нее тесно переплетаются особая рационально-конструктивная идея в графике и биоритмически-органичная идея в инженерной конструкции. В силу этого произведения Митурича можно рассматривать как яркий пример неразрывного синтеза строгого естественно-научного мышления и зоркого натурно-пластического видения, повлекшего за собой, во-первых, появление увлекательных графических метафор о времени, движении и пространстве, а во-вторых – сложение парадоксальной стилистики магически окрашенного «поэтического» реализма, нацеленного на раскрытие всеобъемлющей «тайны» художественного творчества и универсального «чувства мира».